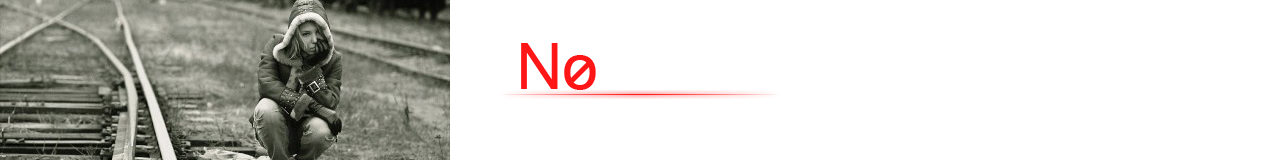Боливийцы перед выбором — ананас или кока
Мне обидно за Пентагон.
— Может быть, вы не очень следите за вертолетами? Подарки часто портят тех, кому их дают.
— Подарки?! — удивляется майор. — Да это их ничтожная плата за то, что мы не выпускаем отсюда кокаин, оберегая их же здоровье, американцев. Мы-то не нюхаем, как они, не колемся в такой степени. И если они не могут сократить свои потребности, если их рынок толкает наших людей на преступления, то я не стал бы их вынужденные попытки ограничить ввоз кокаина в их страну считать помощью нашему народу.
Слова майора непривычны для моих официальных спутников — они люди государственные. Лицо Алексея стало озабоченным, словно ему поручили передать его правительству дипломатическую ноту. А в глазах Луиса читается мучительное желание как-то прервать рискованные откровения анекдотом. Алексей постарался перевести стрелку разговора и спросил, как относятся к «Когтям тигра» в деревнях. Бойцы из разных местностей, ни в одной не выращивают коку. Им трудно понимать психологию чапарцев. Майор переживает, когда крестьяне, владеющие коковыми посадками, встречают его отряд камнями, а бойцам запрещено открывать огонь — они возвращаются на базу, часто с синяками.
Вечерами майор ходит по крестьянским дворам, объясняет им политику государства. Надо убедить крестьян. А как это сделать, если кока привычна, почти не требует ухода, климат здесь идеален и никаких проблем со сбытом: оптовики забирают все, еще спасибо говорят. Особенно довольны крестьяне, живущие рядом с подпольными фабриками; по ночам они приходят туда утаптывать листья в ямах. Их заработок зависит от успеха хозяина, как ему удастся вывезти продукцию и где продать. В Чапаре килограмм кокаина стоит триста — пятьсот долларов. В Ла-Пасе — до тысячи пятисот. В США — сто тридцать тысяч.
И что бы майор ни говорил им, как бы ни призывал уничтожать посадки, чапарцы, убежден майор, «этого никогда не поймут».
На ситуацию в Чапаре влияют этнические и социальные различия владельцев коковых земель. Одно дело исконные жители, для которых жизнь невозможна без употребления растения, для них священного. С ними все-таки можно находить общий язык. Другое дело — пришельцы-колонисты, переселившиеся в провинцию. Для этих кока — возможность безбедно жить. С этими разговаривать труднее.
Население провинции Чапаре (сто пятьдесят тысяч человек) не спешит принимать программу правительства. Защиту их интересов взял на себя конгрессмен Эво Моралес, профсоюзный вожак чапарских фермеров. Конгрессмен предупреждает правительство: «Я неоднократно пытался унять беспокойство крестьян, готовых идти на прямые столкновения с армией. Но их терпению, приходит конец, как и моей способности сдерживать их». Он призвал католическую церковь выступить посредником между чапарцами и властями, но правительство не нашло предмета для переговоров. Эво Моралес использует каждый конфликт для возбуждения общественных страстей. По его призыву коколерос выходят на дорогу с лозунгами «Кока или смерть!».
Незадолго до нашего приезда события в Чапаре обострились, угрожая обернуться гражданской войной; появились первые убитые и раненые. Из Ла-Паса прилетала министр юстиции Анна Мария Кортес. Она указала на нарушения прав человека с обеих сторон и обещала привлечь к ответственности виновных, даже если ими окажутся члены правительства. Жертвой того, что происходит в провинции, сказала министр, является весь боливийский народ. План «Достоинство» должен быть выполнен, но при условии, что людям, выращивающим коку, помогут иначе обеспечивать свои семьи.
Я радовался, что попал наконец в район нелегальных коковых плантаций, самый беспокойный в Боливии. Но мои надежды увидеть хотя бы одну из них, поговорить с коколерос, неожиданно поставили майора в затруднительное положение.
— Каким временем вы располагаете? — спрашивает он.
— Дня два, три…
— До ближайшей плантации ходу дней пять. В сухую погоду. А пойдут дожди — две недели.
— И мне возвращаться, не повидав подпольных плантаций?
Майор делает вид, что не слышит.
Мы ночевали в деревенской гостинице за пределами военного лагеря. Ночью почти не удалось сомкнуть глаз, а утром не успели стянуть с головы марлевые простынки, как под окнами раздались короткие автомобильные гудки. Мы выбежали на улицу. У ограды стоял белый джип, за рулем — наш майор. Он не спал, что ли?
Майор везет нас в деревню Вилья Тунаре. Он слышал, в лесах вокруг деревни могли уцелеть посадки коки. Он надеется их найти и предъявить нам как вещественное доказательство сопротивления чапарцев.
Мне кажется, солнце здесь поднимается быстрее, чем обычно, как будто торопится согреть на дороге осликов с корзинами овощей, которых тащат за веревку индейцы кечуа. Чапарские индейцы — прямые наследники империи инков, сохранившие их язык. Кечуа, говорит майор, как все другие, имеют в лесах небольшие коковые поля; с ними тоже приходится воевать. Я представлял, что думают кечуа, когда майор притормаживает джип и спрашивает их, где можно увидеть коковые поля. Кто же ему скажет? По-моему, они принимали нас за сумасшедших. Разводили руками и торопились прочь, не оглядываясь.
Майор затормозил машину рядом с семенившим по обочине индейцем; он был в сандалиях и в полосатой майке вроде тельняшки, прикрытой распахнутой на груди шерстяной кофтой. На носу очки, в руках ничего, кроме увесистого мачете. Майор деликатно выяснял, есть ли поблизости плантация, указывая на нас и уверяя, что лишь покажет ее, никому не причиняя зла, даже не спросит, чья она. Индеец спрятал мачете за спину:
— Я свой участок выкорчевал, сеньор майор. — И продолжал это повторять, даже когда машина отъехала на приличное расстояние.
— Я все выкорчевал, сеньор майор!
Майор ругал упрямых кечуа, хотя сам был из этого народа.
Мы кружили вокруг деревни. Майор чувствовал неловкость от бессилия уговорить чапарцев показать какой-нибудь участок; он не сомневался, что припрятанная полянка есть у каждого, но на поиск ушел бы весь день. Мы молча вернулись в Вилья Тунаре, досадуя, что потеряли время, хотя мое любопытство в какой-то мере было вознаграждено пусть даже беглым знакомством с кечуа. Джип уже покидал окраинную улочку, когда в распахнутые настежь ворота мы увидели старый амбар и перед ним площадку, заваленную зелеными листьями.
На солнце сушилась кока!
Выпрыгнув из машины, майор пошел во двор искать хозяина; мы увязались за ним, не сразу сообразив, что внезапное появление незнакомых мужчин нагонит на крестьянина страху; он будет нас слушать, молча кляня себя за забывчивость. Из амбара вышел босой парень в зеленой куртке на голое тело. «Хосе», — назвал он себя. После того как майор протянул руку первым, демонстрируя доброжелательство, парень пожал руку каждому из нас, заглядывая в глаза и надеясь прочитать в них приговор, который мы вынесли ему за такую массу наркотического сырья. Да, сушит для продажи, вывозит на местный рынок четыре раза в год. Покупают чапарцы, не имеющие своих участков, но сохранившие привычку жевать лист и пить коковый чай. За сорок килограммов сушеного листа он выручает двести пятьдесят боливиано (пятьдесят долларов).
— Послушай, Хосе, — говорит майор, — помоги мне, а я помогу тебе. Нужно показать гостям, как растет кока. Поедем на твой участок. Мой отряд никогда не пойдет по дороге, которую ты укажешь. Обещаю тебе.
Хосе изумлен: услышать такое от майора!
— И ты не заставишь меня вырыть и сжечь кусты? — с недоверием спрашивает Хосе. — Ты клянешься?
— Перед тобой и своими гостями.
Хосе садится в наш джип; мы снова трясемся по лесной дороге, но уже в другую сторону. Минут через сорок наш проводник просит остановиться на опушке эвкалиптовой рощи. Он выходит из машины и приглашает следовать за ним по еле приметной тропе. Под ногами пружинят и хлюпают влажные листья; местами мы переступаем через мшистый валежник, гнилой и изъеденный муравьями. Хосе идет в глубь леса, мы гуськом за ним, повторяя его движения. Внезапно он быстро уходит вперед, теряется в зарослях. «Хосе, где ты?» — кричит майор, но ответа нет. Мы ускоряем движение, почти бежим за майором.
Тропинка внезапно оборвалась, и мы увидели коковую плантацию размером с половину гектара; в дальнем краю стоит улыбающийся Хосе;
— Кто же так ходит по сельве?!
Мы вошли в кусты коки и перевели дыхание. Кусты высотой в рост человека, усеяны нежно-зелеными листиками и маленькими белыми цветочками. Я притянул ветку к себе: пять лепестков и беленький же пестик, а кое-где уже есть плоды — красные горошины, очень похожи на кофейные. Я взял горошину в рот — на вкус сладковата. Говорят, боливийские дети обожают жевать эти плоды. Вспомнив обычай амазонских индейцев, я сорвал несколько листиков, скомкал языком во рту и комок стал перекатывать, посасывая, от щеки к щеке, как учил вождь уитотос Хитома Сафиама, и снова не почувствовал ничего, кроме горечи.
Хосе уверяет, что этой плантации восемь лет, она дает меньше листьев, чем прежде, а новые кусты он сажать не собирается — не хочет иметь проблемы с властями. Намерен съездить в Центр альтернативного развития, посмотреть питомники и спросить у знающих людей, какие культуры в условиях Вилья Тунаре могут приносить доход.
Спрашиваю майора, что все-таки говорят крестьяне в ответ на требование уничтожить коковые поля.
— «Это моя форма жизни, я свободный человек, вы не можете мне мешать. Вы представляете чужие интересы, а для нас кока — это создание Бога. Мы продаем листья коки, а если кто-то делает из них кокаин, это их проблемы». Так говорят, Хосе?
— Все так… — соглашается Хосе.
— И добавляют то, что слышат от заезжих скупщиков: «Больше будет кокаина — скорей подохнут гринго!» Так, Хосе?
— Все правильно.
Гринго — это американцы.
Майор вспомнил легенду народа кечуа, известную и Хосе. Когда на эту землю пришли испанцы, вождь инков обратил внимание на их любовь к золоту и поклялся: «Они найдут у нас белое золото, которое убьет их!» Белым золотом стал для них кокаин.
В мусульманских странах, производящих наркотики, тоже оправдывают дурное дело святой целью уничтожать неверных. Интересный феномен столетия: наркодельцы внедряют в массовое сознание неприязнь к странам-потребителям их контрабанды, к тем не умеющим защититься от беды народам, благодаря которым преступники и увеличивают свои состояния. Наркотики, как верно замечено, становятся оружием в политической борьбе.
— Как убедить боливийца в опасности его уверенности, будто наркотики на нас самих не действуют и убивают только иностранцев? — сокрушается майор.
К вечеру мы подвезли Хосе к его дому в Вилья Тунаре. Майор еще раз пообещал забыть об участке, если, конечно, его не обнаружат бойцы, посоветовал все-таки выбраться в Центр альтернативного развития, подыскать для своего хозяйства другие культуры и жить спокойно.
— Будь здоров, Хосе! — пожал ему руку майор.
И добавил:
— Не забывай запирать ворота.
Боливийцы раньше других поняли призрачность надежд разделаться с наркобизнесом одной вооруженной силой, не разбирающей, кто попадает под ее громыхающий каток: кокаиновый король или запутавшийся в долгах несчастный мелкий фермер, не знающий, как содержать семью, не выращивая коку, которую вынужден прятать от властей. Для таких растерянных земледельцев в департаменте Кочабамба власти создали Центр альтернативного развития. Там выращивают новые культуры, адаптируют их к местным условиям, помогают всем желающим с выгодой замещать посадки коки. Вот путь постепенной, добровольной, мирной ликвидации подпольных плантаций.
В фермерском сознании тоже стали замечаться перемены. И пусть наш Хосе пока побаивается расквартированного в Чапаре вооруженного отряда «Когти тигра», пусть не вполне доверяет майору — с ним уже можно договариваться. Деревня откажется от коковых посадок, от исторически сложившихся способов самообеспечения, если взамен ей предложат другой, действительно безопасный, источник стабильных доходов. Отчего не перестроить хозяйства? Только хотелось бы это делать в обстановке спокойствия и уважения законных прав человека.
Трудно убеждать малограмотных, сомневающихся, растерянных людей в доходности неизвестных им садовых и огородных растений. А кто гарантирует новым плантациям хорошую погоду, защиту от вредителей, высокие урожаи? За кокой, пусть тайно, приезжают покупатели-оптовики, при них грузовой транспорт, расчет на месте. А возьмись за другие культуры — кто будет находить рынки сбыта?
Назову три момента, в боливийском опыте важные.
Власти отважились на эксперимент, нигде в мире не опробованный — покончить с наркобизнесом без насилия. Это принципиальная составная часть общей правительственной стратегии. Привлеченные для этой цели внутренние и иностранные инвестиции способствуют экономическому росту государства, увеличивают производство продовольствия, повышают качество жизни населения. На этом пути Боливия возвращается в число уважаемых стран, имеющих гордость и достоинство.
Не умствования теоретиков, а опытные участки (восемьсот гектаров), всегда открытые для сомневающихся, доказывают преимущества замещающих культур. При соблюдении агрономических требований они способны давать с единицы площади много больше товарной продукции, чем кока. И не надо прятаться! В 1986 году новые культуры в Чапаре принесли доход в два миллиона долларов. Через одиннадцать лет эта цифра возросла до двадцати пяти миллионов долларов в год.
Новые культуры, требующие постоянного ухода, вынуждают крестьян менять психологию. Неприхотливая кока многих развратила. Воткнул в землю ветку, она зазеленела, собирай листья. И можешь дремать на краю поля, надвинув на глаза шляпу. А теперь землю надо рыхлить, окучивать, пропалывать… а зачем? Прощание с кокой — это расставание с прежним образом жизни. Расставание тяжелое, но деваться некуда .
Агроном Хавьер Гевара водил нас по экспериментальным участкам. В ряду самых продуктивных культур, замещающих коку, он называет черный перец, бананы, маракуйю.
Черный перец завезли из Коста-Рики и Бразилии (три сорта). К удивлению экспериментаторов, перец в тропиках Кочабамбы оказался культурой более продуктивной, чем даже у себя на родине. В теплицах уже полмиллиона саженцев, адаптированных к новым условиям. Их охотно берут крестьяне, добираясь сюда на велосипедах и на осликах с плетеными корзинами по бокам.
Бананы — из Гондураса. В чапарских условиях эта культура обычно беззащитна перед болезнью «черный налет», поражающей целые рощи, но гондурасские сорта обнаружили прекрасную стойкость. Прежде в этой местности гектар вмещал пятьсот — шестьсот банановых пальм, она давала до двенадцати тонн плодов. Адаптированные семена и новая технология позволили высаживать на той же площади до тысячи шестисот пальм и собирать сорок — сорок пять тонн бананов.
Маракуйя («фрукт страсти») — с берегов Амазонки. Соком кисловатых плодов с толстой желтой кожурой мы утоляли жажду, когда спускались по великой реке. Высадив на гектаре чуть больше тысячи саженцев, можно получить от восьми до четырнадцати тонн фруктов. На рынках торгуют свежими плодами, натуральными соками, а также мороженым, йогуртами, джемами с кусочками маракуйи.
От медиков я слышал об успокаивающих, антидепрессивных, спазмолитических свойствах этих плодов. Одни лечат ими эпилепсию, невралгию, неврозы. Другие применяют при ожогах, болезнях кожи… Я скептически отношусь к целебным растениям, когда им приписывают широкий лечебный диапазон, но маракуйя, уверяют боливийцы, — феномен.
В боливийской поездке меня не покидала мысль, что коковые посадки, скорей всего, единственные из наркотических, которым власти, не прибегая к насилию, ищут и постепенно находят замену. Я не знал, что пару лет спустя встречу такой же опыт на юге Китая в провинции Юньнань, но уже с опийным маком. Китайцы пошли еще дальше — они предлагают замещающие культуры фермерам пограничных районов соседней Мьянмы, поставщикам нелегального опийного сырья. В обмен на прекращение контрабанды опия китайцы соглашаются полностью закупать у соседей урожай новых культур по гарантированной цене. Но о китайском опыте разговор впереди.
Джип бежал по проселочной дороге в сторону Санта-Крус. В полутьме вечера проносились кокосовые пальмы, банановые рощи, пышные агавы, похожие на гигантских дикобразов. У въезда на каждый мост щиты с названиями рек; красива музыка местных названий — Чемуре, Ичоа… В сезон тропических дождей речки выходят из берегов и подтапливают дорогу. Темнеют влажные леса, закрывая от дороги таинственный мир, живущий по законам, определяемым растением, которому все вокруг подчинено. Было время, говорит майор, когда авианетки наркодельцов с грузом химикатов для подпольных фабрик садились прямо на эту дорогу. Под прикрытием ночи бидоны с химикатами перегружали на спины носильщиков, уходивших в темноту.
— Куда мы едем? — спрашиваю майора.
— В Россию! — смеется он.
Алексей улыбается в усы: ему приятно, что боливийский офицер, находясь, как говорили еще недавно, на переднем крае, пусть хоть шутливо, но помнит, что где-то за тридевять земель отсюда лежит в снегах незнакомая ему великая страна. Луис понял шутку майора как приглашение посмешить всех русскими анекдотами, но память выдавала на этот раз сплошное неприличие, при переводе терявшее даже тот жалкий смысл, какой в них был изначально заложен; майор смеялся только из солидарности.
Минут через пятьдесят машина сворачивает с дороги и упирается в деревенскую ограду — дальше пути нет. За перекладинами в темноте хрюкают поросята; пахнет навозом и прелым сеном; я разглядел на веревке мокрое белье, под навесом поленницу дров, у сарая бочку, стянутую обручами, как бы приготовленную для солений. В усадьбе, в переднем дворе, ближе к дому, амбар и банька. Крепкий пятистенок, из резных окон с белыми ставнями падал свет. Крылечко избы окончательно привело меня в замешательство: казалось, вот-вот небеса обрушат на землю перезвон церковной колокольни.
— Где мы? — Я подошел к майору.
— В России!
Из состояния наваждения меня вывел скрип двери — на пороге возник могучий краснолицый мужик с рыжей бородой, в подпоясанной синей косоворотке. Наверное, в этих декорациях боливийцы снимают фильм из русской жизни, бог знает каких времен, подумал я, но никак не мог сообразить, почему съемочный павильон построили в эпицентре кокаинового производства и антинаркотической войны. По сюжету этот мужик, должно быть, представляет русскую мафию, завладевшую боливийскими коковыми плантациями.
— Буэнос нойтес! — здоровается майор.
— Буэнос нойтес, — отвечает мужик.
— Добрый вечер! — машинально говорю я.
— Добрый… — отзывается мужик и вдруг спохватывается, вдруг округляет глаза — не померещилась ли ему в ночи русская речь.
— Вы по-русски понимаете?! — Он не верит ушам.
Так мы попали в дом Исаака Анисимовича и Евдокии Дмитриевны Ревтовых, в семью русских боливийских крестьян. Патриархальной простоты изба с крашеными полами в сенях, с чистыми половичками у порога; в углу образа, вышитое полотенце, горящая лампада; в самодельном шкафу за стеклом молитвенные книги на старославянском; на кухне кадушка для воды, ковши, стеклянная посуда. У обеденного стола хлопочет Евдокия Дмитриевна — в зеленом цветастом сарафане на коротких лямках поверх белой складчатой кофты и в голубом платке, повязанном на затылке.
— Откель гости дорогие? — поднимает синие глаза.
Где мы, в каком краю, в котором столетии?
Я сижу на табурете в гостеприимном русском доме и слушаю занимательную историю потомков фанатиков веры XVII столетия, гонений на них и их скитаний по белу свету. Семья Ревтовых — одна из трехсот русских старообрядческих семей, вынужденных в тридцатых годах нашего века бежать от сталинских репрессий, покинуть родной Иман в Приморском крае и скрываться в Маньчжурии. В Харбине родились Исаак Aнисимович и Евдокия Дмитриевна. В 1952 году многие харбинские россияне, по фамилии все больше Ревтовы, отправились искать счастья в Южной Америке. Их дети появились на свет в Бразилии, где они осели, как потом оказалось, на время. В чужой стороне было непросто владеть клином земли, к тому же вовсе не такой, как земля на родине, на кредиты покупать скот, технику, строительные материалы. Им давали ссуду под будущие урожаи, но кто мог быть уверен, повезет ли потомственным землепашцам в чужом краю и что их ждет в неурожайные годы. Почти тридцать лет русские люди корчевали тропические леса и засевали поля под Параной, к юго-западу от Сан-Пауло. Там находили приют выходцы из разных стран, особенно много было японцев и итальянцев. Но земля истощалась, на удобрения не хватало денег, и русские, многие из них, послушав своих ходоков, вернувшихся из странствий по материку, решились уходить на север, в Боливию. По рассказам, в Боливии продаются земельные участки по сносной цене, в реках водится рыба, а власти относятся к переселенцам по-людски, уважают чужое вероисповедание.
Ревтовы со своим скарбом плыли на лодках по рекам, добирались на грузовых машинах в места, где землю тогда можно было купить по двадцать долларов за гектар. Им понравилась боливийская почва, родит без удобрений. Сбережений Исаака Анисимовича и Евдокии Дмитриевны хватило на покупку клина в восемнадцать гектаров. Они принялись заново, как в бразильских лесах, валить деревья, строить дом, распахивать клин. Хозяйство по здешним меркам среднее — рисовые и бобовые поля, полтора десятка коров, свиньи и куры, есть трактор. Евдокия Дмитриевна готовит сыр, творог, сметану, шанежки, пряники наливные — раскупают, чуть ли не в очереди стоят соседи-боливийцы («боливаны», говорит она).
— Сегодня ничего нет, я могу вам сметаны положить. Сало у нас копченое есть… Есть свиньи.
— Сколько? — спросил я.
— Кто его знает, три больших да маленькие.
У Ревтовых семеро детей и пятнадцать внуков.
— Трое сейчас живут здесь, — говорит хозяйка. — Две девки, один сын. Девки — Марья и Анна, сын Алексей…
Старшие сыновья Лаврентий и Георгий обзавелись собственным хозяйством и живут под Санта-Крус.
— Дети русских женятся или выходят замуж за боливийцев?
— Нет, — решительно отвечает хозяин. — Зачем мы будем смешивать? Наша кровь, по крайней мере, русская. Зачем мы будем брать или отдавать? Мы не любим это.
Русские боливийцы, как другие общины староверов в Латинской Америке, строго соблюдают закон — вступать в брак только с единоверцами. Женихов и невест ищут в других русских зарубежных общинах, переписываются, ездят друг к другу для знакомства — в Бразилию, Аргентину, Уругвай и дальше — до Аляски и Австралии.
Я спросил, ходят ли дети в школу. Исаак Анисимович отвечал в том смысле, что в семье так заведено: старшие учат младших, учат «по-христиански», поскольку в школах все делают «не по-нашему». А поступать в институт не позволяют ни вера, ни традиции:
— Мы должны жить в деревне, а как только выучи его, он в город пойдет, испортится.
С разрешения хозяев я стал смотреть книги в шкафу. Большинство по истории староверческого движения, жития святых, псалтыри. Почти все напечатаны в США. Светских книг в доме не держат. «Мы это не потребляем, сказал Исаак Анисимович. — Меньше знать — меньше думать будешь. Когда знаешь много, спать не можешь. Когда ничего не знаешь — спишь».
Когда семья собирается вместе, мать ставит на стол графин с бражкой из тропических фруктов («Это как в России называлась медовушка»). За столом поют «Ревела буря, гром гремел…» и «Выходила на берег Катюша…». В семье сохранили чистый русский язык (хотя знают португальский и испанский), носят одежды старинных русских покроев, чтут все святые праздники. Все бы ничего, говорит Исаак Анисимович, расстегивая ворот рубахи, но душа просит холодов. «Лучше там, как сказать, где холодно, как в России. Мы в Китае жили, там же зима была, лето, осень, весна — это же наша природа. А здесь нет. Днем было жарко, а теперь хоть застывай. Мы же отвыкли: немножко холодно — уже холодно кажется».
В России Ревтовы никогда не бывали и пока не собираются.
— Что так? — спросил я.
— Сами-то они, бедные, живут там, мы слышим, трудно. Если бы оне жили, ну, будем говорить, более-менее, знаешь, а мы бы разве тут скитались? Мы бы уже давно пол-России проехали!
— Здесь, видно, пообвыклись уже?
— Непривычные мы здесь. Климат жаркий, и все это не по-нашему, не так, как мы жили в Китае. Тут тропика…
Зашел разговор о продолжительности жизни русских людей в непривычных условиях.
— Пятьдесят лет, — сказал Исаак Анисимович.
— Да ты чо! — набросилась на мужа Евдокия Дмитриевна. — Тебе шестьдесят, а все еще живой!
— Это же не написано, кто сколько проживет… — смутился хозяин.
Местность, где обосновались Ревтовы, называется, как протекающая поблизости река, — Ичоа. Рядом стоят дома еще пятидесяти русских семей.
Двор Ревтовых со всех сторон окружен скрытыми в джунглях коковыми плантациями, он почти в эпицентре противостояния коколерос и властей. В стране, мы знаем, нет района, благоприятнее для коковых растений и нет другой культуры, которая бы давала столь баснословный доход, но мы от майора слышим, что русские — не только все Ревтовы, но и Вальковы, и другие (в округе почти три сотни русских семей) — никогда не пытались выращивать коку. Наркодельцы приходили к Исааку Анисимовичу, гарантируя закупки на месте и оптом, хорошую цену, надежную охрану.
— «Сажайте, — говорили, — большие деньги будут».
— А что вас остановило?
— Мы же знаем эту проблему. Дрога штука нехорошая, заразная, мы не касаемся этому.
— Нельзя — по вере или по другим причинам?
— И по другим.
— Стало быть, государство правильно поступает, запрещая выращивать коку?
— Мы в этом не замешаны и не можем рассудить. Кто из них прав, кто виноват, мы не знаем. Мы живем себе, они себе.
Вот так и живет в чужой стороне верующий русский человек, землепашец Исаак Анисимович, привычный к труду, не податливый на соблазны, послушный только голосу своей совести. Не будет он собирать листья коки зная, какая другим людям от них беда. Ничто его не заставит. И не одни Ревтовы так живут. Многие боливийские русские и их соседи — индейцы кечуа, находясь в окружении коковых полей, имея землю, ничуть не меньше пригодную для кустарника коки, иногда даже лучшую, никому не завидуют, а видят высшую радость в том, чтобы жить без суеты, без страха, оставаться самими собой. И устремленно, экономя силы, делать свою извечную крестьянскую работу — доить коров, сеять рис, срезать с пальмы гроздья бананов.
— Если что надо будет, дайте знать. Поможем, — говорит по-испански майор, прощаясь.
— А что надо… Мы сами по себе! — на испанском отвечает Исаак Анисимович.
Мы возвращались из Чапаре в Кочабамбу по местам, где в середине шестидесятых годов пытался склонить боливийцев к революции Че Гевара, аргентинский врач, ставший ближайшим сподвижником Фиделя Кастро. Он и его отряд выбрали район к югу от Санта-Крус для устройства своей главной базы. Она располагалась на ферме, ставшей известной под именем «Каламина». Отряд не нашел поддержки населения и был разгромлен. Мы проезжали вблизи реки Рио-Гранде. Там кубинские партизаны и среди них близкая Че немецкая революционерка Таня (Тамара Бунке), переходя реку вброд с поднятыми руками, были с обеих сторон в упор расстреляны боливийскими правительственными войсками. А несколько дней спустя, 9 октября 1967 года, захваченного в плен Че Гевару убили. Местные жители до сих пор поговаривают, будто его отряд на самом деле занимался в джунглях переброской наркотиков .
Боливийцы, большинство их, согласны с желанием правительства развязать сложный узел наркотических проблем без насилия. Разницу между боливийской и колумбийской ситуацией они видят в том, что в их стране невозможно партизанское движение под знаменем привнесенной идеологии; боливийское мировосприятие традиционнее.
Перед тем как направиться в аэропорт, мы снова проехали по солнечным улицам Кочабамбы, расположенной на идеальной для здоровья человека высоте — примерно две с половиной тысячи метров над уровнем моря. Ниже — влажные тропики, стоит страшная жара, а здесь вечная весна. Машиной мы поднимаемся на высокую гору; со смотровых площадок видна панорама южного города у подножия Кордильер; это второй по величине боливийский город. Еще натужный подъем по асфальтовому серпантину, и машина вкатывается на самую высокую смотровую площадку. Но восхождение отсюда только начиналось. Мы стали подниматься по крутым бетонным ступеням. На самой вершине горы ослепительно белая гигантская статуя Иисуса Христа. Говорят, она метров на пять выше семидесятиметровой статуи над Рио-де-Жанейро. Руки раскрыты в любви и готовы, кажется, прижать к груди всю землю, весь наш измученный мир.
Люди идут вверх по винтовой лестнице внутри статуи, расходятся в обе стороны по Его предплечьям и в узкие окошки смотрят на открывающуюся взору беспредельность.
В ясную вечернюю погоду отсюда можно видеть на горизонте, низко над джунглями, блуждающие тени. Это индейцы кечуа над кострами кипятят в чайниках коковые листья. А в русской печи, недавно сложенной Исааком Анисимовичем, вытерев рукавом лоб и поправив на голове платок, печет пироги с капустой Евдокия Дмитриевна. И где-то рядом дымятся подпаленные отрядом майора подпольные кокаиновые фабрики.