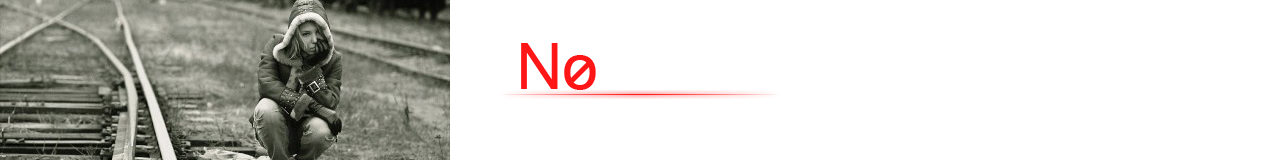Аборигены Тасмании и компания «Джонсон и Джонсон»
Но почему грибы?
Действие наркотического препарата во многом зависит от склада личности, к нему пристрастившейся. Галлюциногены одинаково причудливо изменяют восприятие окружающего мира, но механизмы воздействия, характер эффектов, оттенки настроения разные. ЛСД чаше всего вызывает кошмарные видения, неприятные психические реакции, нередко панику и смятение. А грибы, к которым привык наш пациент, давали отвечавшие его мироощущению красивые, фантастические переживания, которые он описывал, никому свои рукописи не показывая, пряча страницы в ящики стола. Он любил их перечитывать, заново переживая дорогие ему ощущения, никого не допуская в свой внутренний мир. Потом, доверившись лечащему врачу, он кое-что рассказывал о пережитом и перечувствованном. Например, о том, как, прохаживаясь в погожий день по городу, поймав на ладони солнечные лучи, он видел в своих руках яркие цветные крутящиеся шары, часто полужидкие, которыми на ходу жонглировал, как это делают артисты цирка.
Однажды в студенческие годы (он учился в медицинском институте и ушел с третьего курса), поев перед лекцией грибов, он смотрел, как преподаватель ходит взад-вперед у черной доски, что-то пишет мелом, и вдруг в доске образовалась обитая кожей красивая дверь с резным окладом. Это была совершенно реальная дверь, с глазком и замками. Он наблюдал, как дверь бесшумно отворилась, за ней видна была изящная деревянная лестница с балясинами, как в старинных дворянских домах. Преподаватель вошла в эту дверь, обернулась и, помахав всем рукой, стала исчезать на этой лестнице, уходя в никуда.
Самые страшные видения приходили в морге но время занятий по патологической анатомии. Обычно это приходило весной, когда запас сухих грибов заканчивался и он закладывал за щеку промокашку, смоченную ЛСД. Трупы в морге оживали, на лицах менялись гримасы, тела приподнимались, жестикулировали, угрожали ему. Он бежал прочь, искал, куда спрятаться. Но на улицах шли мимо и навстречу тоже трупы, без одежды и страшные, с биркой на большом пальце ноги. В конце концов ему удавалось спрятаться от них в кустарниках городского сада. Но в это время как бы со стороны он видел самого себя — тоже голого, в страшных язвах, и на ноге бирка с номером. Дальше он ничего не помнил. Просыпался на следующее утро в нормальном, трезвом состоянии — под кустами. Как потом ему рассказывали, он действительно носился по улицам, шарахался от прохожих, плакал и кричал. Прохожим он казался подвыпившим, а они ему — трупами. В таком состоянии, говорил он, погибли многие его друзья. Они путали балконы в многоэтажном доме с входной дверью или, чувствуя себя птицами, спасались от кошмарных видений в комнате, выбрасываясь в окно.
Грибы он собирал летом в карельских лесах под Петрозаводском, там же ел их сырыми, от десятка до сотни штук за один раз, в зависимости от величины, от концентрации псилоцибина, от скорости прихода видений. А осенью привозил домой мешками и сушил впрок, чтобы хватило на зимние месяцы, когда можно связки обдать кипятком или варить в кастрюле, поедая мякоть и запивая отваром. Грибные места ему по секрету открыл художник-сюрреалист, хронический потребитель галлюциногенов. Искаженное наркотиками восприятие реальности он воспроизводил на своих полотнах, поражая зрителей неуемным буйством фантазии. Когда заканчивались грибы, они оба принимали «кислоту» (ЛСД). Если и этого не оказывалось под руками, переходили на ежедневный прием марихуаны, которая давала похожий, но слабоватый для них галлюциногенный эффект. Оба приятеля, поев в лесу грибов, с радостным возбуждением наблюдали, как чудесным образом все изменялось вокруг: воздух отчетливо серебрился струями, можно было под струю подставить ладонь, а вековые сосны становились мягкими, словно были вылеплены из воска. Если попытаться повторить тот же эффект на следующий день, грибов надо было съесть вдвое больше: толерантность организма к псилоцибину начинала быстро возрастать. Чтобы снизить ее, они ели грибы с перерывами, два раза в неделю, получая те же ощущения при прежних дозах.
Нашего пациента почти не покидало депрессивное состояние, чаще всего с необъяснимым для него самого мрачным оттенком. И даже когда лечение пошло на лад, когда он стал поднимать прежде постоянно опущенные глаза, когда постригся, наконец, он оставался легкоранимым, малоразговорчивым. Медикам стоило немалых трудов вызывать его улыбку. Он оживлялся только при вопросах, как грибы заготавливать и есть.
Одно время он приезжал в лес с подругой. Они вместе ели грибы, отдаваясь пьянящим галлюцинаторным переживаниям. Однажды в таком о стоянии они возвращались домой, шли по улице мимо стройки, с радостными криками взбегали на кучи мусора и, балансируя, ходили по трубам. Взобравшись на леса, девушка прыгала, смеялась, пятилась назад, и он отчетливо видел, словно при замедленной киносъемке, как она падала с лесов под колеса проезжавшего самосвала с гравием.
После похорон он долго не мог прийти в себя и вместо грибов стал снимать подавленность водкой. Когда однажды он добрался до грибной поляны, ее уже охраняли вооруженные парни из криминальных структур. За сбор грибов надо было платить. По дорогам в разных направлениях уходили доверху заваленные грибами полуторатонные грузовики.
Ничего этого я не стал рассказывать юной тасманийке в баре «Собачий дом», потому что не припомню случая, когда кого-либо убеждал чужой опыт: каждый верит только собственному и обращается к нему тем чаше и искренней, чем последствия непоправимей.
— А где в Хобарте снимают абстинентный синдром? — спрашивал я смотрительницу островного музея, когда мы обошли последний зал. Музей густо населен скелетами вымерших животных. Среди них оказался последний тасманийский тигр, убитый в тридцатых годах, его предков когда-то завезли с Японских островов, но второй родины зверей из Тасмании не получилось.
Да что там японские тигры — такая же судьба ожидала коренных тасманийцев. Их чистых потомков практически не осталось. На острове живут четыре тысячи слегка смуглых, почти белокожих аборигенов, в жилах которых есть кровь древних обитателей острова.
Самую большую часть населения Тасмании составляют потомки англосаксов, за ними идут датчане, немцы, итальянцы, греки (их много появилось здесь после Второй мировой войны), есть общины латышей, латвийцев, поляков, венгров, словаков, в последнее время появились ливанцы и курды. Говорят, есть шесть-семь семейств из России. Среди экзотических музейных экспонатов я увидел медный самовар с черными ручками. Какими судьбами, дружище, ты попал из России в Тасманию? Чьи силы ты укреплял своим кипятком в опасных морских походах? На меди я разобрал гравировку: «Самоварная фабрика Воронцова». Самовар знаменитой фабрики Дмитрия Осиповича Воронцова был спутником английского капитана Бригса, коменданта тасманийского форта Маккори в пушкинские времена. Не знаю, русский ли самовар умягчал нравы, но капитан Бригс слыл среди островитян человеком добрым, не допускал жестокого обращения с осужденными, какое здесь было обычным до и после него.
Я не надеялся услышать от смотрительницы адреса клиник, где лечат наркозависимых больных, но, к приятному удивлению, она прекрасно знала единственный в Хобарте медицинский центр, где снимают абстинентный синдром, и долго рисовала на бумаге, как к нему пройти.
— Будьте здоровы! — сочувственно пожелала она, глядя мне в глаза.
Центр по излечению алкоголизма и наркомании оказался на одной из многих крутых улиц, взбегающих от залива на склоны холмов. Был субботний день, дежурный фельдшер долго допытывался, что за наркоман ломится в закрытое учреждение. Повторял, что нет ни места, ни врача и лучше самому снять ломку небольшой дозой наркотика, а уже завтра показаться. Я успокоил его, заставив поверить в отсутствие каких-либо просьб, кроме желания встретиться со своим коллегой, лечащим врачом. Впустив меня, дежурный набрал номер домашнего телефона врача Джексона. «Откуда-то из Азии!» — сказал он, и это, похоже, на другом конце провода произвело впечатление.
Через полчаса доктор Дэвид Джексон приехал в центр. Я увидел человека лет сорока, очень спокойного, как почти все психотерапевты. Он родом из Варбуртона, долгое время занимался общей практикой, а когда на острове открылась вакансия врача-нарколога, он подал документы на конкурс в надежде заняться страдающими зависимостью, интерес к кото¬рым испытывал всегда. В штате Тасмания четыреста двадцать тысяч населения. Каждый пятый — выпивоха (если еще не хронический алкоголик), треть жителей курят, многие употребляют амфетамины, опий, героин. Он сам, говорит, не ожидал от тихого острова, мирового лидера в производстве тонкой шерсти, одного из крупных поставщиков пшеницы и яблок, такой пораженности наркотиками.
Алкоголизация Австралийского материка, он уверен, идет от шотландцев и ирландцев, которые привили аборигенам вкус к спиртным напиткам, приучили принимать их часто и в неумеренных количествах. «Кельтские народы принесли в Австралию культ виски, как русские в Восточную Европу — культ водки», — запомнилось мне его сопоставление. А опий пришел сюда лет сто пятьдесят назад, когда на золотые прииски хлынули завзятые курильщики — китайцы. Героин попадает в эту часть Индийского океана из Индонезии и Таиланда.
Чистые наркотики дороговаты для основной части населения. Люди скромного достатка изготавливают «тасманийский коктейль» — добавляют в опийный раствор барбитураты, димедрол, ангидрид, варят на открытом огне, смесь процеживают через вату и вводят себе внутривенно. Meнять шприцы большинству не по карману, они моют в ручье уже использованные — шприцы идут по рукам. Среди больных не так много зараженных ВИЧ-инфекцией, но гепатит находят у большинства.
Психология тасманийцев, особенно аборигенов, принципиально островная, отлична от психологии населения на материке. Космологическая и этическая детерминация их сознания тесно связана с ограниченным пространством, где многие между собой знакомы, по крайней мере, лица друг другу примелькались. Они совершенно лишены чувства «титанизма», свойственного многочисленному сообществу, и не заблуждаются относительно своего места в мировых процессах. Может быть, этим отчасти можно объяснить, например, почему островитяне — потребители наркотиков не проявляют интереса к кокаину, выступающему у наркоманов других народов как бы символом принадлежности к высшей касте.
В Хобарте купируют абстиненцию, применяя валиум-диазепам (при алкоголизме), при опийной наркомании используют клонидин, а длительное лечение зависимых от опийных наркотиков ведется по известным метадоновым программам. В те дни, когда я был на острове, метадон систематически принимали триста больных. «На большой земле, — говорит доктор Джексон, имея в виду Австралию, — пробуют лечить опийных наркоманов налтрексоном, бупренорфином, длительно действующими морфинами, но мы подождем: медики не могут позволить себе роскоши экспериментировать на больных тасманийцах — их и без того мало» .
Доктор Джексон предложил пройти с ним по палатам, извиняясь за невозможность заранее обещать разговор с кем-либо из пациентов — тасманийцы замкнуты, стеснительны, малоразговорчивы, им не нравится проявляемый к ним интерес посторонних людей. В одной из палат я увидел тощего человека с татуировками, покрывшими тело с головы до ног. Это была ходячая картинная галерея. Безо всякой надежды я повернулся к доктору с вопросом, нельзя ли испросить у этого больного разрешения поговорить с ним.
— Марк, со мной врач-нарколог из Кыргызстана.
— И что ему надо? — сверкнул глазами Марк.
Начало знакомства не предвещало ничего хорошего. Но когда доктор Джексон сообщил о моей готовности осмотреть и, возможно, вместе обсудить его проблему, странный пациент бросил на меня изучающий взгляд, подвинулся на койке, заправленной байковым одеялом, и кивком головы разрешил сесть рядом. Я послушал пульс и задал пару вопросов. Он отвечал нехотя, глядя не на меня, а на своего лечащего врача, словно видел впервые.
Итак, тасманиец Марк, тридцати лет, употребляет все, что оказывается под рукой или что можно достать в острый момент, — героин, бензоаты, снотворное, алкоголь. Употребляет наркотики с восемнадцати лет. Обычная доза — полграмма героина в день. Лечился в разных клиниках; самый большой промежуток, когда обходился без наркотиков, — шесть месяцев. Отец в тюрьме, мать лечится от алкоголизма. Сам тоже отбывал наказание, но не подолгу. На вопрос, есть ли семья, отвечать не захотел. Последний раз принимал наркотики пару дней назад — семьдесят таблеток диазепина по пять миллиграммов в каждой.
— Что вы думаете о кокаине?
— Гадость, действует два часа, а мне нужно шесть-семь часов.
— Марк, почему героинщики часто кончают смертью?
— В тюрьме забывают, у кого покупать чистый порошок.
— Что же вы им не подскажете — у кого?
— Когда они здесь — я снова там.
В тюрьмах Австралии, включая штат Тасманию, криминализированных больных, как наш собеседник, пять тысяч. Но даже среди избежавших суда молодых людей, по наблюдению тасманийских медиков, шестьдесят процентов употребляют наркотики. Теряют работу, семью, друзей. «Наркоманы, — говорит доктор Джексон, — чувствуют себя виноватыми, стесняются. Мы прибегаем к психотерапии. Не в тебе все зло, утешаем мы, а в твоей болезни. Это большая разница. Сваливая все на наркотики, мы даем человеку шанс».
Он хороший психолог, доктор Джексон. Все сваливая на наркотики, ничем не задевая самолюбия больных, все еще настороженных, он лишает их желания копаться в их прошлом, снова переживать тяжелые истории. Снимая с них вину, он освобождает, очищает души от сорняков — во вспаханную почву можно бросать здоровые зерна.