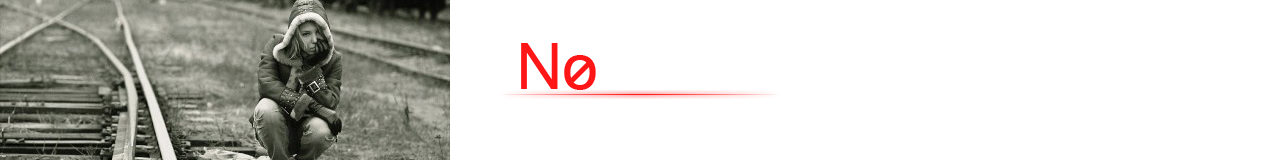Провидцы и целители из рода Кытай
Пылающие красным пламенем маковые поля были элементом пейзажа родины. Маковый лепесток умещался на ладошке; если его размять в пальцах, от потемневшего комочка исходил сырой запах земли. После полудня в нежаркое сухое время крестьяне ножом надрезали маковые коробочки, из надрезов сочилось белое молочко, за ночь оно загустевало и темнело. А с восходом солнца, пока не слишком пекло, надо было металлическим скребком (калаком) снимать в стеклянную банку с коробочек вязкую кашицу. Это был опий-сырец. В сезон сбора на плантации опийного мака – тогда самые крупные в Советском Союзе – вывозили из городов до пятидесяти тысяч человек. Сырец шел на производство морфия, в то время единственного средства, снимавшего боль. Кыргызы давали шестнадцать процентов мирового производства опия — высочайшая морфийность нашего опия не имела аналога. Государственные закупочные цены на опий превосходили цены на всю другую сельскохозяйственную продукцию. За каждый проданный государству килограмм опия хозяйствам засчиты
вали по центнеру якобы сданного ими зерна .
Легальные посевы мака у нас со времен войны (1941 — 1945 гг.): госпиталям требовался морфий, а в стране не так много районов, где для мака хорошие природные условия. Но с окончанием войны мак продолжали сеять, даже больше прежнего. Республика давала две трети морфия для медицинской промышленности. В школьные годы мы смутно улавливали в разговорах старших тревогу. Поговаривали о людях, тайно наезжавших в республику для закупки опия-сырца, они платили крестьянам за товар большие деньги, их ловила милиция, но справиться с наплывом перекупщиков не могла. В разгар сбора опия плантации охраняли по шестьсот — семьсот курсантов милицейских школ, но перекупщики платили крестьянам в тридцать, в шестьдесят раз больше, чем официальная заготовительная цена, и опий уходил на сторону. В 1963 году руководитель республики Турдакун Усубалиев приехал в Москву к заместителю Председателя Совета Министров СССР Анастасу Микояну с просьбой освободить кыргызов от выращивания опийного мака.
— Если мы прекратим производство мака в Киргизии, у вас что, есть валюта закупать морфий за рубежом по импорту? А, товарищ Усубалиев? — спросил Микоян.
— Вы же знаете, в республике нет валюты… — смутился Усубалиев.
— И у нас ее нет, — отрезал Микоян.
Только в 1974 году Усубалиеву удалось добиться от Москвы запрета на выращивание в Киргизии опийного мака. Этому помог Алексей Косыгин, председатель Советского правительства. Он слыл трезвенником и морщился, уловив легкий винный дух от собеседников. Взамен лекарств с содержанием наркотиков правительство СССР постановило создать лекарственные препараты, «по эффективности не уступающие применяемым в медицинской практике, но не представляющие наркотической опасности».
В конце восьмидесятых годов, при переходе к рыночному хозяйству, опийный мак стал снова овладевать умами, на этот раз предпринимателей и политиков, опьяненных возможностью быстро сотворить чудо — покрыть землю маковыми коробочками, которые превратят Кыргызстан в Гонконг. Идею «новых кыргызов» поддержали «новые русские», рассчитывая найти свое место в наркокартеле мирового класса. Сведущие же люди называли планы возрождения посевов наркотических культур самоубийством для населения.
Международный комитет по контролю наркотиков Организации Объединенных Наций из своей штаб-квартиры в Вене с беспокойством следил за развитием кыргызских событий. Один иссык-кульский начальник уже перевел в Турцию сто пятьдесят тысяч инвалютных рублей на закупку элитных семян опийного мака. Дело принимало нешуточный оборот. Ситуацию переломил кыргызский президент Аскар Акаев:
— Пока я президент, опийного мака у нас не будет!
На официальном уровне диспуты прекратились, но крестьяне бывших макосеющих районов, поддерживаемые приезжими дельцами, продолжают мак высевать. Делянки прячут в высоких хлебах, среди болот, в горах. Закупщики теперь берут не только затвердевший сок. Они мешками вывозят маковые стебли с корнями, варят «черняшку» — средство не такое сильное, но все же утешение малоимущих, кому дорогой наркотик недоступен. В потребление опиатов вовлекаются новые социальные слои.
Мои коллеги, а тем более пациенты, которых удивляет, откуда мне известно, что именно они чувствуют в тот или другой момент, вряд ли подозревают, что в молодости я сам курил марихуану и едва не стал наркоманом. Конечно, было бы предпочтительнее написать о высоком порыве восемнадцатилетнего первокурсника, будущего нарколога: «В интересах науки он отважился на себе испытать последствия болезни, чтобы со знанием дела спасать тысячи гибнущих душ…» Увы, на самом деле все было до обидного тривиально. Осенью студентов отправляли за город собирать колхозную картошку. Мы долбили лопатами промерзлую землю, грузили полные мешки на телегу. Старая лошадь дожидалась, пока телега наберет положенный ей вес, и сама направлялась проселочной дорогой к амбару. Подвыпивший возчик шел рядом, держа в руках поводцы и бормоча ругательства в адрес студентов, из-за которых спозаранку приходится быть на ногах.
Вечерами мы собирались в сельском клубе. Молодые, веселые, влюбленные, нам все было нипочем. Семеро моих сокурсников устроились под тутовником на скамейке и пригласили меня в свой круг. По кругу пошла папироса, набитая смесью табака и гашиша. Все было таинственно, исполнено завораживающего риска. Мне совершенно не хотелось курить, я вообще не курил, но было неловко обнаружить свою невзрослость, и я втянул в себя дымок. Хорошо помню первые ощущения: участилось сердцебиение, стало чуть труднее дышать, во рту — сухость. И ничего больше. Никакой эйфории!
Только потом, после третьей или четвертой пробы, я почувствовал возбуждение, которое пришло к сокурсникам много раньше. Нас охватывал беспричинный смех, мы хохотали по всякому пустяку. На танцах казались сельским девушкам страшно веселыми и умными. Догадливые наши сокурсницы смотрели на нас с явным пренебрежением.
Окончив первый курс, я отдыхал на Иссык-Куле. В крестьянских дворах росла конопля. Я в первый раз увидел это растение высотой до трех метров с крупными широкими листьями. Странно было представить, что заросли конопли сохранились в Центральной Азии с тех пор, когда о них писали Геродот и Гиппократ. Молодые иссык-кульцы угощали «городских» конопляной соломкой (марихуаной) и вязкой жирной пыльцой (гашишем), учили смешивать с выбитым из папиросы табаком и заталкивать начинку обратно в гильзу. Трудно сказать, что нас привлекало больше курение и вызванные им ощущения или все же преодоление запрета. Я курил раз в месяц в кругу студенческих друзей, а летом с иссык-кульскими ребятами. Мне долго не удавалось поймать то, что называют кайфом, но я ощущал ускоренный темп мышления: мысли как будто переполняли голову, были или казались необычайно яркими, глубокими, оригинальными. Мы входили в своеобразный транс, по три-четыре часа обсуждали и анализировали прочитанную книгу или фильм; наши суждения представлялись нам чрезвычайно интересными; мы были доброжелательны, преисполнены радости и выглядели в глазах друг друга интеллектуальной элитой. Несколько затяжек, и мы больше не терзались мыслями о смысле жизни и смерти, но открывали для себя возможность в любое время и почти даром испытать ощущение восторга и счастья. Меня как будто стало двое: один холодно наблюдал за происходящим, зато другой, убегая от настороженности первого, купался в волнах блаженства, был в раю. Поймав однажды момент просветления или усиленной работы мысли, я уже не мог избавиться от воспоминаний о возвышенном состоянии, время от времени тянуло снова проникнуть в сладостный мир умственного взлета. В нормальном состоянии я не отличался особой интуицией, но после приема дозы начинал тоньше чувствовать собеседника. Слова обретали небывалую значимость и смысл, у голоса появлялись новые обертоны, я чувствовал энергетическую силу собственной речи и способность властно убеждать или переубеждать слушателей.
Употреблять наркотики сильные, вводить их в вену я побаивался. Был панический страх перед шприцем с опийным раствором. Возможно, повлияли рассказы отца; среди его пациентов бывали безнадежные потребители опия, героина, амфетаминов. Отец не подозревал, что его собственный сын-медик покуривает наркотики. Только мама, приводя в порядок мои брюки, обнаруживала в карманах пакетики с травкой. Я убеждал ее в беспричинности тревог: пакетики, говорил я (как в таких случаях говорят едва ли не все щадящие своих мам), дали друзья для передачи товарищам, и я даже не знаю, что это за растения. Но маму не проведешь, мне до сих пор не по себе при воспоминании, как она страдала.
Наши студенческие годы совпали с войной СССР в Афганистане. Из района боевых действий в город возвращались раненые, в семьи моих сокурсников приходили похоронки на отца или брата. У нас в мединституте усилилась военная кафедра, с нами проводили учения как с будущими младшими офицерами. Уже с каждого студента снимали размеры верхней одежды и обуви. Пошел слух, что в первую очередь на войну будут посылать ребят с явно выраженным азиатским типом лица — кыргызов, узбеков, таджиков. Мы были молоды, не совсем понимали, что происходит вокруг, и это вызывало тревогу. В моем кругу были школьные товарищи, в институт не поступившие и сразу же мобилизованные в армию. Многие из них возвращались в цинковых гробах. Похороны убитых сверстников становились ритуальной частью нашего быта. Это я не в оправдание, а только в запоздалое объяснение самому себе подавленного состояния, тогда не вполне нами осознанного, из которого мог на короткое время вывести наркотический дым.
В студенческом общежитии, куда я захаживал к друзьям, ребята варили в кастрюлях «ханку», как у нас называли отвар из маковых коробочек, в который добавляли химикаты и разные лекарственные средства, получалось сильное дурманящее вещество, как бы кустарный аналог героина. Они вводили «ханку» внутривенно или заваривали в виде чая, но меня их забавы не привлекали, отчасти потому, что я занимался спортом, не хотел терять форму и с меня довольно было сигареты с каннабисом. Окончательно бросить и это курево я заставил себя после трагического случая с моим студенческим другом Маликом Салиевым. Это был высокий красивый парень, из интеллигентной кыргызской семьи, душа любой компании. Я знал, что он тоже покуривает или как-то иначе употребляет наркотики, но представить себе не мог, в каких дозах. Он второй год работал в клинической ординатуре, когда его послали на практику в Москву. И вдруг как гром среди ясного неба: Малика нашли в общежитии мертвым, и, по словам близких к нему людей, смерть наступила от передозировки.
Я тогда работал в Оше, в психоневрологическом диспансере. Город помнил моего отца, лечившего многих, и отсвет его известности падал на меня, облегчая первые шаги. Ко мне шли бывшие его пациенты. Мне нравился этот южный городок. У меня уже были дом, любимая жена, рос сын. Нет, я не хотел судьбы Малика Салиева. Жизнь не баловала, приходилось ночами подрабатывать на «скорой помощи», проводить гипнотические сеансы. Очень хотелось, чтобы мое имя ассоциировалось у людей не только с отцом, но и со мной самим, продолжателем его дела в этом городе. Но не прошло и года, как меня перевели во Фрунзе, в распоряжение медицинского института. Я стал научным сотрудником институтской исследовательской лаборатории. Становилась близкой к осуществлению надежда, в которой я никому не признавался, хотя все эти годы она жила во мне: работать вместе с отцом.
Я тогда не знал, что переезд в столицу совершенно изменит всю мою жизнь и приведет к созданию Медицинского Центра Назаралиева – то есть имени, доплывшего до меня из тьмы столетий, от отца, деда, прадеда, потомков кыргызского рода кытай.